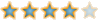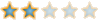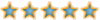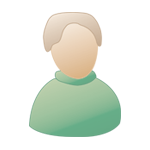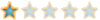Однажды чудесная советская писательница на большом собранье заявила,
что художнику не надо знать экономические законы или торговлю, чтоб
создать художественный образ. Я тогда ответила ей (экспромтом в ту минуту
и много, много раз сознательно в последующие разы, как и сейчас): а как же
лучший русский писатель после Пушкина, — Гоголь, — настойчиво просил у
друзей и знакомых, когда засел за «Мертвые души», книг по статистике,
экономике, о русском сельском хозяйстве? Отнюдь не потому только, что
хотел знать последние данные о помещичьих усадьбах на Руси, по которым
собирался поездить вместе со своим Чичиковым, это — само собой. И не
потому только, что его интересовала механика взятия подушных налогов за
крестьян у помещика. Это — тоже само собой, ведь он должен был знать,
прекращается ли налог за «душу» сразу, как эта душа помрет, или надо
помещику платить и за мертвого до новой «ревизской сказки», ведь на этом
был построен весь его замысел, на это именно, как на удивительный казус,
полный необыкновенных возможностей для романа, — обратил его внимание
Пушкин. Но роль Гоголя, как великого творца-художника, вовсе не
исчерпывалась этими, как мы их назвали бы сейчас, техническими моментами.
Гоголь оставил нам галерею бессмертных художественных образов, — я не
представляю себе ни единого грамотного человека в нашей стране, кто,
прочитав «Мертвые души», при одном только упоминании имен: Коробочка,
Собакевич, Манилов, Чичиков, — не представил бы их себе, как ж и в ы х, с
плотью и кровью той человеческой особенности, какую мы именуем характером.
Как живых — а не внешне-условно.
Однако же разберемся аналитически, чем и в чем достиг Гоголь этой
бессмертной передачи живого человеческого характера? Описаньем главного
д е л а их встречи: к у п л и-п р о д а ж и. Уберите из романа страницы,
где Манилов, в результате туманного «заумного» философствования, мягкотело
отдает свои «мертвые души» — витающие в его мозгу где-то абстрактно —
задаром Чичикову; вычеркните сцену, где, на первый взгляд, добродушная, но
кулачиха до мозга костей, Коробочка, понимающая своих мертвых крестьян,
как материальные трупы и кости в земле, изматывает Чичикова своей
нерешительностью: «Право... мое такое неопытное вдовье дело: лучше я
маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам»; снимите у
Собакевича, прожженного дельца, во всем любящего прочность, как он
торгуется с Чичиковым: «Вам нужно мертвых душ? — ...без малейшего
удивления, как бы речь шла о хлебе» — и тут же запрашивает за мертвую душу
аховую цену — сто рублей. Для него эти души, поскольку они понадобились, —
товар, он перечисляет их качества: «Милушкин, кирпичник: мог поставить
печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет,
то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного! А Еремей
Сорокоплёхин!.. в Москве торговал, одного оброку приносил...»* И на все
конфузливые напоминания Чичикова, что ведь это, так сказать, мертвые,
«неосязаемый чувствами звук», «предмет просто фу-фу... кому нужен?» — он
отвечает: «Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен». Попробуйте убрать
все эти сценки торговли — и тогда образы, словно из камня выточенные в
вашей памяти, вдруг сразу обмякнут, потеряют характер, станут более или
менее общими, внешними. Бессмертно, в полноте характеристики, возникают
они именно в момент купли-продажи. А вместе с ними возникает картина всей
русской крепостной деревни до реформы, весь конкретный исторический уклад
отсталой русской экономики. «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе,
как... внешне».
Обратил ли Горький особое внимание на эту фразу в письме Ленина? У
нас есть важные свидетельства. Весной 1930 года готовилось к печати новое
издание воспоминаний Горького о Ленине. Но вот Горький получил уже
упомянутое мною письмо Надежды Константиновны от 25 мая. И он делает вещь,
показывающую, как глубоко отозвалось в нем это письмо, — он пишет 20 июня
своему секретарю: «Я предлагаю задержать выпуск воспоминаний, потому что
могу дополнить их теперь, имея в руках письмо Н. К. Крупской, в котором
она свидетельствует, что со мною «Ильич говорил о себе больше, чем с
кем-либо»*.
Чем же он хочет дополнить свои воспоминания?
В этот же год, 1930-й, Горький набрасывает хранящиеся сейчас в архиве
«Заметки», где есть очень важное место о Ленине. Это место показывает, что
Горький правильно понял Крупскую, именно так, как сказано мною выше: для
Ленина говорить о себе — не значило делиться интимными личными
горем-радостью, а полнее, откровеннее раскрывать себя в своих мыслях и
суждениях о вещах. Именно в этом смысле напрягает Горький свою память,
стараясь припомнить — чтоб не исчезло! — как раскрывался Ильич перед ним в
своих внутренних настроениях, какие удивительные, необычные мысли
высказывал. Он припомнил встречу с Лениным у Екатерины Павловны Пешковой
20 октября 1920 года в Москве. Я приведу ее почти всю. Начинает Горький
сокрушенно, как исповедь-покаяние.
«Люди читали, учились, а я, начиная с 907 года, усердно копался в
пыли и мусоре литературы и публицистики той интеллигенции, которая
отвернулась от рабочего класса и пошла на службу буржуазии. Это — тяжелая
работа, но я должен был сделать ее для того, чтоб знать по возможности
все, что может отравить, задержать рост революционного правосознания
пролетариата. Сколько подлого и глупого прочитано мною! И остались
непрочитанными умнейшие статьи Ильича, друга, учителя, так трогательно
заботливо относившегося ко мне.
Когда у Екатерины Павловны я сказал ему об этом, он засмеялся и
ответил:
— А — я? Гегеля не успел проработать как следует. Да — что Гегеля!
Много не знаю, что должен бы знать. Я вовсе не оправдываю вас и себя тоже.
Но ваше дело все-таки другое. Не по существу, а по форме. Дураком
вообразить себя я не имею права, а вы — должны, иначе не покажете дурака.
Вот — разница.
И — великодушно похвалил:
— Зато дела дурацкие вы знаете назубок. Слушая ваши рассказы, даже
боишься: не успеет написать»*.
Тут Ленин — за три с лишним года до своей смерти — с удивительной
силой указывает разницу между политиком и художником. Чтоб создать
художественный образ «дурака», писатель должен «дураком вообразить себя»,
а для этого — напитаться «дурацкими делами». Новая ли это мысль у Ленина?
Впервые ли он так категорично делит («не по существу, а по форме») работу
политика и работу художника? Нет, еще в самом начале их дружбы с Горьким,
в разгар борьбы с идеалистическими тенденциями «впередовцев», Горький
присылает в газету «Пролетарий» (которая, по мнению Ленина, должна
оставаться абсолютно нейтральной к расхождению большевиков в философии)
статью, излагающую взгляды только одного течения — богдановского,
враждебного Ленину. И что же пишет Ленин Горькому, отклоняя его статью, в
острую минуту, когда сам он «прямо бесновался от негодования», читая
«эмпириокритиков, эмпириомонистов и эмпириосимволистов», — что пишет он
писателю пролетариата? Вот что:
«Я не знаю, конечно, как и что у Вас вышло бы в целом. Кроме того, я
считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой
философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах
художественного творчества Вам все книги в руки и что, извлекая
э т о г о рода воззрения и из своего художественного опыта и и з
ф и л о с о ф и и х о т я б ы и д е а л и с т и ч е с к о й, Вы можете
прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу»*.
«Пролетарий», орган политический, должен идти своим, политическим
путем, не печатая фракционного материала. Но художник, писатель Горький,
может извлекать свой опыт из любого источника, хотя бы из
и д е а л и с т и ч е с к о й ф и л о с о ф и и (Ленин даже
подчеркивает — идеалистическую философию!), потому что он может извлечь
для себя из нее нечто, необходимое в его творчестве, приносящее в итоге
пользу рабочей партии, — о г р о м н у ю пользу, как пишет Ленин.
Художник, чтоб создавать о б р а з ы, должен осваивать п о ч в у,
питающую эти образы, — иначе вряд ли будут они реальными.
Мне вспоминается тут, к слову сказать, письмо Блока, где, критикуя
раннюю мою пьесу, он пишет мне, что для правильного изображения
отрицательных персонажей надо в них «сатирически влюбиться». Это как будто
«из другой оперы», но по существу исходит из того же глубинного понимания
художественного творчества, огромной силы б е с с т р а ш н о г о
знания, знания до влюбленности, знания до перевоплощения в изображаемого
человека. Политик, руководитель, стратег дураком вообразить себя не имеет
права; он органически не смеет влюбиться в дурака — до самоперевоплощения
в него; а художник должен и смеет, иначе он никогда не покажет дурака в
искусстве.
Ленин широко понимает это, он широко открывает двери всяческой
информации и всяческим «любвям до перевоплощения» — для творческого
работника. Заметки, в которых Горький силился восстановить в памяти
сказанное ему Лениным, говорят о п р о ф е с с и о н а л ь н о м
характере восстановленных слов, об отношении их к п с и х о л о г и и
т в о р ч е с т в а писателя и к так называемой с п е ц и ф и к е этого
творчества. Но, кроме сказанного Лениным у Пешковой: «Дураком вообразить
себя я не имею права, а вы — должны, иначе не покажете дурака. Вот —
разница», — Ленин добавляет (и Горькому кажется, что это из великодушного
желания похвалить): «Зато дела дурацкие вы знаете назубок». Такое
коротенькое добавление! А между тем оно в точности совпадает с ленинской
формулой: «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне».
Мариэтта Шагинян. Четыре урока у Ленина